
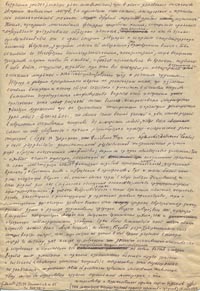
Художник Константин Кузнецов
Кузнецов - художник по основной проблематике и визуальной поэтике своего искусства во многом близкий к поколению т.н. “шестидесятников” (имея в виду, разумеется нонконформистскую неофициальную художественную среду того периода).
Здесь находят свое личноетно-оригинальное продолжение и развитие некоторые темы и визуальные мотивы, которые в свое время (в пору развития “шестидесятников”) не успели до конца раскрыться, проявиться в полную меру, будучи вскоре вытеснены совсем иными, в основном анти-живописными тенденциями.

 Тем самым, опыт данного художника и в аспектах, можно сказать, выживания самой живописи - в сохранении и актуализации пластических ценностей визуального искусства.
Тем самым, опыт данного художника и в аспектах, можно сказать, выживания самой живописи - в сохранении и актуализации пластических ценностей визуального искусства.
Творчество Кузнецова имеет индивидуально-обособленный характер, это своего рода “островной” персонализм, в каком-то смысле отшельническая или аутсайдерская (как бы вневременная) позиция - именно это, даже более чем стилевые особенности сближает Кузнецова с традициями художественного “подполья” 60-70-х гг., при ощутимой, однако, новизне живописных результатов.
Картины Кузнецова можно рассматривать как интересный опыт духовного, то есть в основе своей религиозного искусства. 
 И в этом смысле удачей художника можно считать “эзотеричную” заглубленность религиозного подтекста: эта проблематика здесь нигде не лежит на поверхности. Подход художника к сакральной традиции (в частности к православию) лишен излишней иллюстративности и декларативности, что столь часто случается у многих известных художников при подступе к подобной тематике. И пластический язык мастера тоже чужд навязчивой стилизации древнерусских или иных канонических образов традиционного искусства из прошлого.
И в этом смысле удачей художника можно считать “эзотеричную” заглубленность религиозного подтекста: эта проблематика здесь нигде не лежит на поверхности. Подход художника к сакральной традиции (в частности к православию) лишен излишней иллюстративности и декларативности, что столь часто случается у многих известных художников при подступе к подобной тематике. И пластический язык мастера тоже чужд навязчивой стилизации древнерусских или иных канонических образов традиционного искусства из прошлого.

 Пассеизм и ретроспективизм, ностальгичность здесь явно присутствуют, но в совсем особом качестве - они сугубо персоналистичны и не прикрепляются к какой-либо одной отдельно взятой художественной традиции, что порождает эффект сложного визуального “сплава” (пожалуй, даже полистилистики) при - в целом узнаваемом постоянстве авторского живописного метода, его персональной очень сложной, многослойной и изысканной исполнительской техники: эффект мерцающе-дробной “мозаичности ” письма, изощренная многослойность фактурной проработки холста, специфичная орнаментализированная фигуративность образных наплывов, что вызывает их как бы взаимопросвечиваемосгь - все это с одной стороны утверждая и сохраняя спиритуализируемую плоскость картины, усугубляя магию ее поверхности; но одновременно вместе с тем сочетается со своеобразным антинатуралистическим “иллюзионизмом”, когда внутреннее пространство картины словно бы оживает, обретает изменчивость во времени, позволяет в себя войти, погрузиться, сознавая при этом всю прекрасную иллюзорность возникших тут оптических миражей - этих тактильно-материализованных грез о реальности чудесного...
Пассеизм и ретроспективизм, ностальгичность здесь явно присутствуют, но в совсем особом качестве - они сугубо персоналистичны и не прикрепляются к какой-либо одной отдельно взятой художественной традиции, что порождает эффект сложного визуального “сплава” (пожалуй, даже полистилистики) при - в целом узнаваемом постоянстве авторского живописного метода, его персональной очень сложной, многослойной и изысканной исполнительской техники: эффект мерцающе-дробной “мозаичности ” письма, изощренная многослойность фактурной проработки холста, специфичная орнаментализированная фигуративность образных наплывов, что вызывает их как бы взаимопросвечиваемосгь - все это с одной стороны утверждая и сохраняя спиритуализируемую плоскость картины, усугубляя магию ее поверхности; но одновременно вместе с тем сочетается со своеобразным антинатуралистическим “иллюзионизмом”, когда внутреннее пространство картины словно бы оживает, обретает изменчивость во времени, позволяет в себя войти, погрузиться, сознавая при этом всю прекрасную иллюзорность возникших тут оптических миражей - этих тактильно-материализованных грез о реальности чудесного...

 Наряду с рядом программных картин на религиозные темы, где узнавание основных восходящих к канону образов сочетается с уместными в станковом искусстве вольностями индивидуального мифотворчества видится особо интересным протяженный цикл пейзажей, точнее вольно-ассоциативных ландшафтных фантазий художника, где он вдохновляется специфическим характером конкретного духа места - Оепшз Ьоа, что является темой весьма ценной и, увы, столь редкой в современном отечественном искусстве.
Наряду с рядом программных картин на религиозные темы, где узнавание основных восходящих к канону образов сочетается с уместными в станковом искусстве вольностями индивидуального мифотворчества видится особо интересным протяженный цикл пейзажей, точнее вольно-ассоциативных ландшафтных фантазий художника, где он вдохновляется специфическим характером конкретного духа места - Оепшз Ьоа, что является темой весьма ценной и, увы, столь редкой в современном отечественном искусстве.
Из конкретики , чаще всего самой по себе связанной с пучком разнообразных культурно-исторических реминисценций, будь то Царицыно, Филевский парк или крымско-античный Симеиз, у него разрастается дополнительные разветвленные хитросплетения разного рода образно-пластических мифологем (порой не чуждых ненавязчивой цитатности).

 Так оживает память культуры, наседающие ее неотменимые архетипы. И сами метаморфозы стиля здесь фиксируют подобное проступание следов и слоев “утраченного времени”, обретенного вновь и созерцаемого в пространстве.
Так оживает память культуры, наседающие ее неотменимые архетипы. И сами метаморфозы стиля здесь фиксируют подобное проступание следов и слоев “утраченного времени”, обретенного вновь и созерцаемого в пространстве.
Тут и тени былой, уже изчезнувшей Европы - ее “осколки святых чудес” (говоря словами Достоевского), и столь родные для нас (подлинных наследников эллинства) мотивы средиземноморской “культур-археологии”.
Цитаты искусства, а так же боги и гении языческого пантеона, непротиворечиво уживаются с доминирующей у художника духовной ориентацией; тут и реминисценции наследия древнего Востока столь сродные евразийскому замесу русской души и русской художественной традиции. Короче говоря: весь этот “историзм” в подобной интерпретации лишен как дидактично-археологической сухости, так и пародийной постмодернистской усмешки. 

искусствовед Сергей Кусков